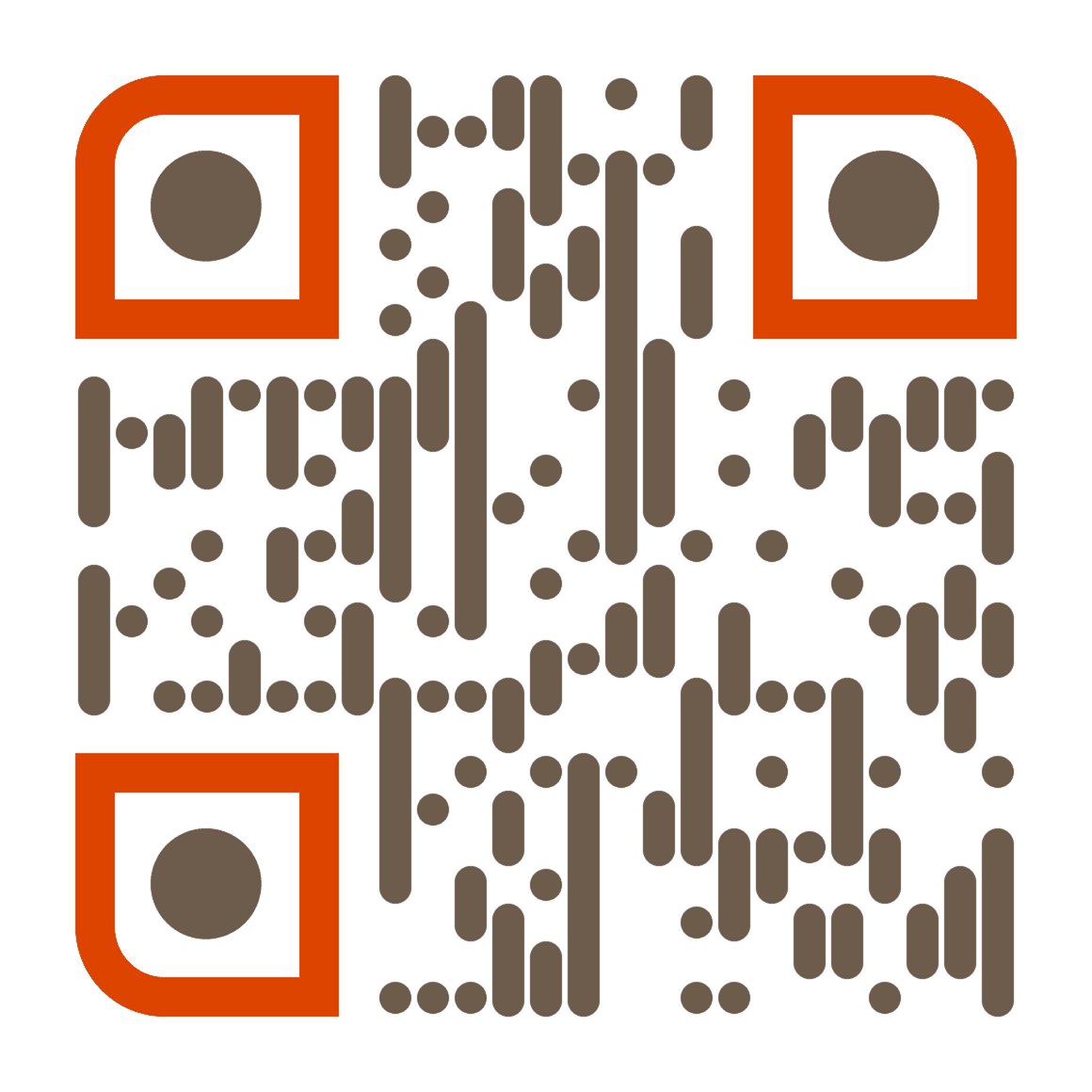Хайку Басё №95: Гори, гори, моя звезда!
Хайку Басё №95: Гори, гори, моя звезда!
秋きぬと妻こふ星や鹿の革
аки ки ну то цума коу хоси я сика-но кава
Уж небо осенью дышало...
Люблю жену в осенней хмури,
Средь белых звезд, каких немало
На ворсяной оленьей шкуре.
Еще одно «оленье» стихотворение Басё. Олень [сика] в Японии на протяжении года мало заметен, (кроме того, конечно, что это священное животное и посланник местных божеств). Но осенью всё меняется. У оленей начинается гон. Самцы ревут, призывая самок. И поэтому в поэзии олень — символ осени, плотской любви и, как ни странно, любовной поэзии. Стенания самцов оленей по подругам напоминают лирику, а поэты ассоциируют себя с этими животными.
Начнем читать. Первая строка [аки ки ну то] будто бы целиком заимствована из древней классической поэзии. Означает только «осень наступила», но стиль подчеркнуто литературный.
Во второй строке [цума] = «жена» (мы не так давно встречали это слово в стихотворении №69 про гулящую кошку); [коу] — «испытывать глубокую привязанность», «любить», «скучать», а [хоси] — «звезда» (или во множественном числе «звёзды»).
О конкретном смысле строки можно гадать, но она читается в том же возвышенном регистре, что и первая, что-нибудь пафосное «звёзды любви жены».
И сразу можно предположить, что «звёзды» здесь использованы в качестве сезонного слова. И они не противоречат «осени» из первой строки, а дополняют ее, уточняя дату. Видимо, Басё имеет в виду «Праздник звезд» ([хоси мацури], иначе Танабата). И, хотя это седьмой день седьмого лунного месяца, зачесть его за начало осени вполне можно (так например, «Праздник середины осени», когда любуются луной — 15-й день 8-го месяца, по датам подходит).
Но отложим на время вторую строку и перейдем к третьей: оленя мы уже узнали, а [кава] = «кожа». То есть вся третья строка — это «оленья шкура». Резкий провал в стилистически сниженный регистр.
Становится понятной задумка автора. Опять видны два плана смыслов. Во-первых, Басё как натуралист описывает поведение оленей: «Наступила осень. Любовь к жене {оленя проявляется} звездами {на} оленьей шкуре».
Основной вид оленей, обитающих в Японии, тот самый, о котором слагают стихи, на латыни официально именуется Cervus nippon, то есть «японский олень», хотя его ареал покрывает не только острова, но и материк, включая российский Дальний восток.
По-русски он называется «пятнистый олень». И вот в этом названии это его главное отличие. Если у других настоящих оленей пятна на шкуре характерны только для детенышей, пятнистые олени сохраняют пятна и во взрослом возрасте, причем к периоду гона эти пятна становятся ярче (то есть явно участвуют в половом отборе).
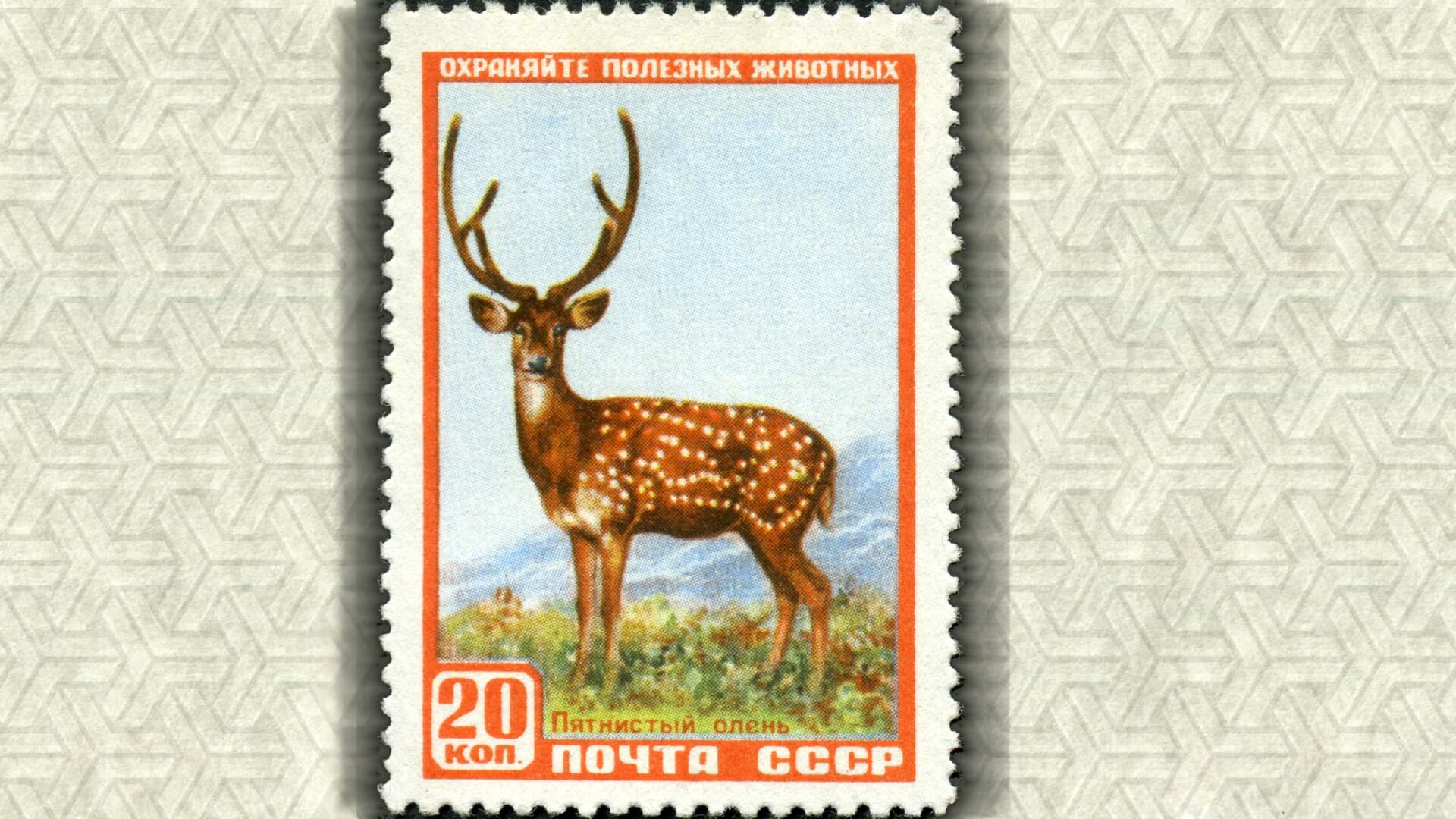
Советская почтовая марка с изображением пятнистого оленя. 1957 г. Серия «Фауна СССР». Художник А. Н. Комаров.
По-японски пятна на оленьей шкуре соотносятся со звездами, чем и пользуется Басё.
Второй уровень смысла радикально отличается от первого: «Пришла осень. Люблю жену {в праздник} звезд {на} оленьей шкуре».
Праздник Танабата посвящен небесным влюбленным, но и под небом в его честь организуются любовные свидания.
Понятно. Но что нам делать с переводом? Всех приемов оригинала повторить не удастся. Выбираем из неоднозначностей «олени» / «люди» и «звёзды на небе» / «звёзды на шкуре». Вторая пара кажется проще реализуемой. Тогда про оленя забываем, жену любит человеческий лирический герой.
«Звёзды на шкуре» или «любовь на шкуре» может стать нормальным панчлайном. Шкуре место в конце, в сильной позиции. Но для эффекта все предыдущие строки должны заставлять думать, что речь идет про небо и небесные звёзды.
И еще не оставляет мысль взять первой строкой какую-нибудь цитату из классики, как сделал Басё. Вот у Пушкина в «Онегине» очень удачно упомянуто небо. Грех не воспользоваться.
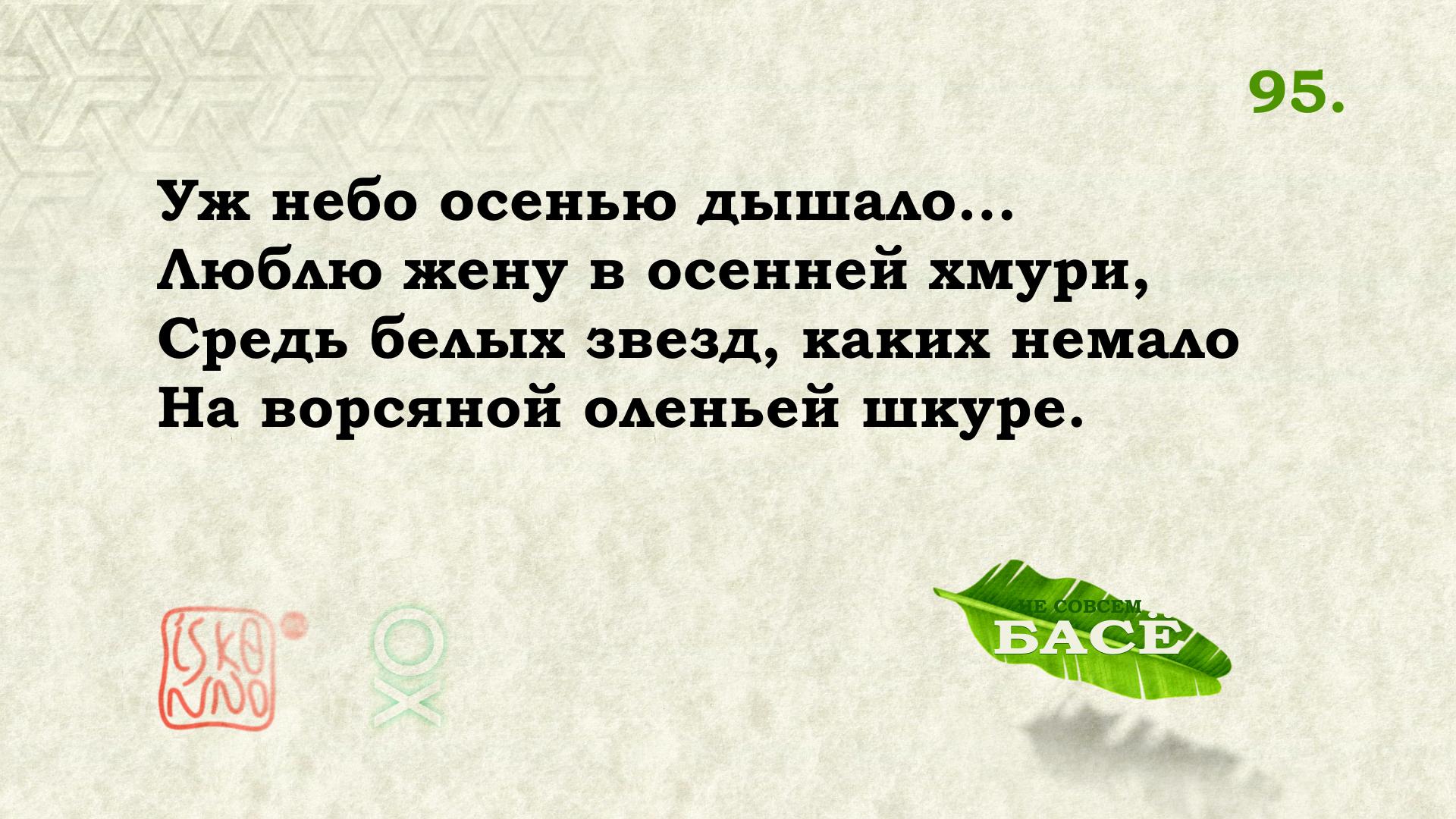
Темы
#звезды #олень #осень #Танабата