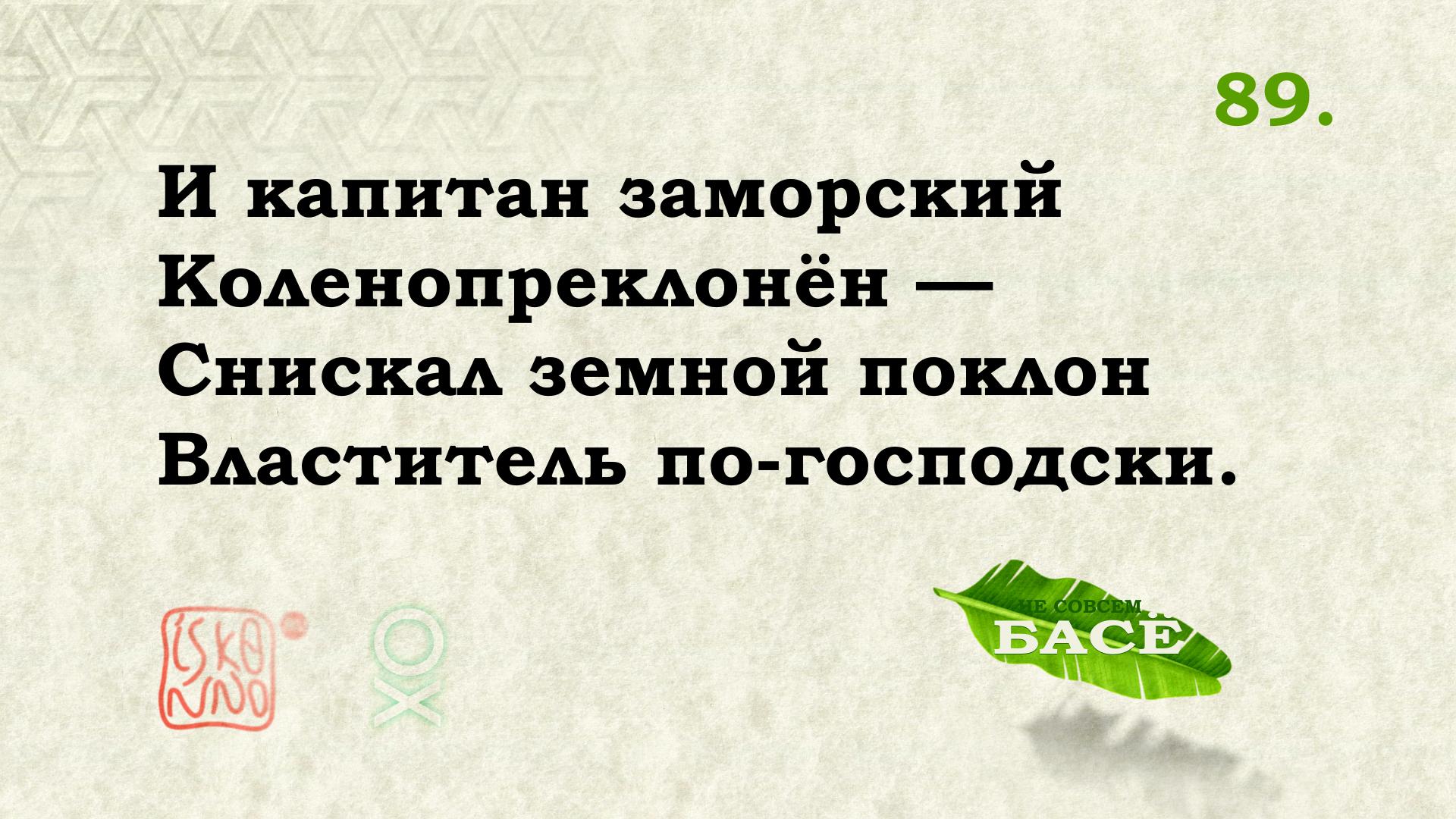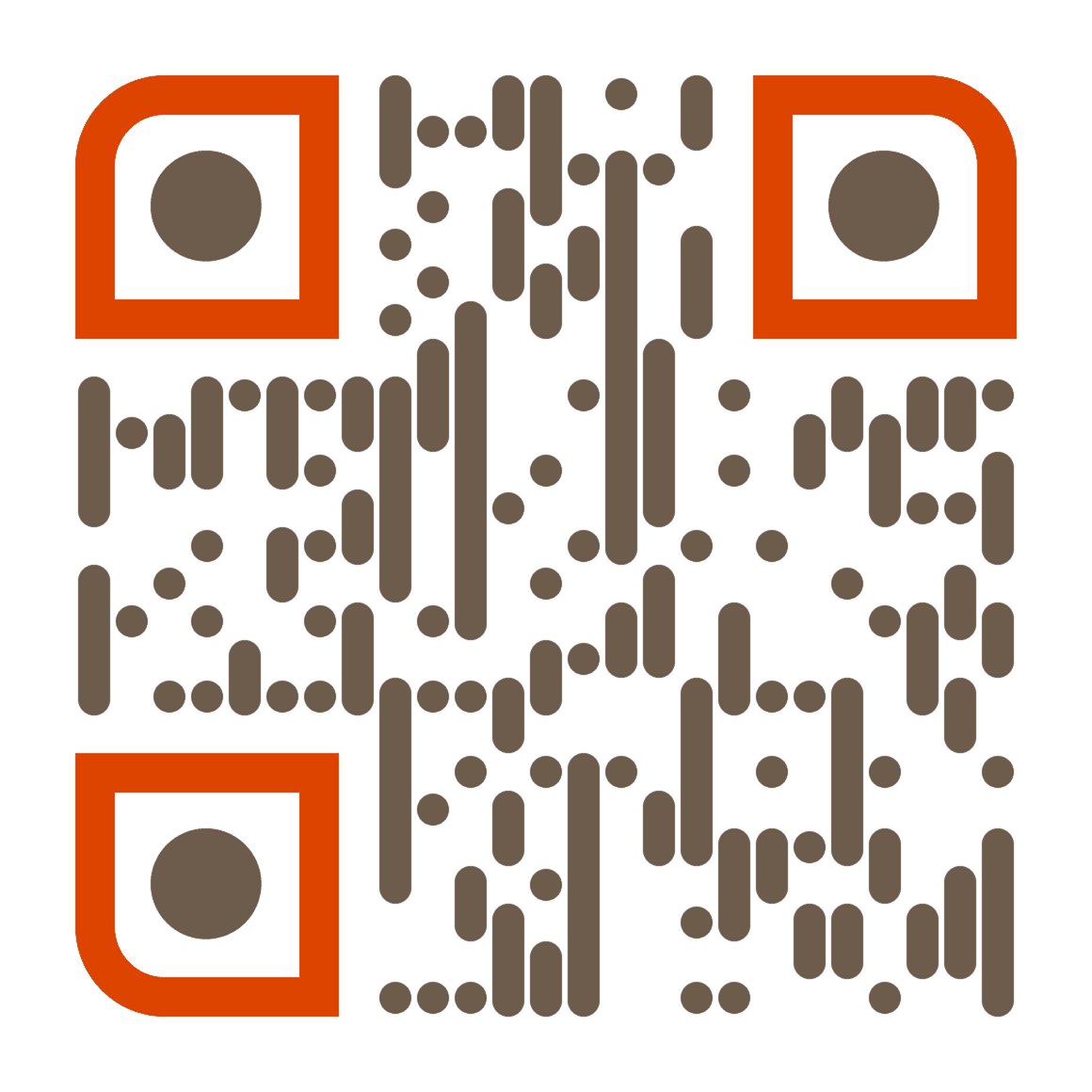Хайку Басё №89: Капитан-капитан, улыбнитесь!
Хайку Басё №89: Капитан-капитан, улыбнитесь!
甲比丹もつくばはせけり君が春
кабитан мо цукубава сэ кэри кими га хару
И капитан заморский
Коленопреклонён —
Снискал земной поклон
Властитель по-господски.
Редкое стихотворение Басё с неяпонскими реалиями: [кабитан] — японское чтение европейской должности «капитан». Но это не капитан судна, а капитан острова.
Япония встретилась с Западом достаточно давно и первоначально монополию на морское сообщение с Японскими островами держали португальцы. При них и был заложен проект искусственного насыпного острова Дэдзима у порта Нагасаки на Кюсю, как перевалочная база для европейских торговых судов. Искусственный статус острова давал много юридических преимуществ: земля под ним формально не являлась Японией, поэтому на острове можно вольнее распоряжаться.
Но японское правительство небезосновательно испугалось западного влияния и «ползучего захвата» через христианизацию населения и однажды после подавления бунта японцев-христиан запретило в Японии и христианство, и португальцев.
Ситуацией воспользовались голландцы, оказавшие услуги сёгуну и, хотя Япония объявила самоизоляцию от мира, сношения с Западом продолжились посредством голландцев, которым и отошел в наследство остров Дэдзима.
Японцы по формальному поводу вскоре вытурили и голландцев с японской территории и им было дозволено присутствие только на Дэдзиме. И такая ситуация держалась дольше двух веков.

Ученый и по совместительству врач на Дэдзиме Филипп Франц фон Зибольд (с подзорной трубой [терэсукоппу]), его японская «жена» и малолетняя дочь наблюдают с Дэдзимы буксировку голландского судна в гавань Нагасаки. Кавахара Кэйга. Между 1823 и 1829 гг.
Ко времени Басё самоизоляция страны проводилась не первое десятилетие и «кабитаны» с Дэдзимы могли заинтересовать, но не удивить.
Но вернемся к тексту. Частица [-мо] после «капитана» указывает на его неуникальность: «и капитан тоже...» или «даже капитан...».
Во второй строке глагол [цукубава] означает «падать ниц», «простираться», «максимально преклоняться».
А третья строка интересна: словарно [кими] — это местоимение, обращение к равному, «ты», но этимологически это слово происходит от обращения «господин», «владыка». Древнеяпонский «господин» настолько опошлился к настоящему времени, что потерял любое уважение. Однако в поэзии старое значение сохранилось.
Вспомните гимн Японии. В качестве гимна он служит недавно, хотя его лирика, видимо, древнейшая из существующих гимнов Земли. Он начинается словами [кими га ё] и [кими] здесь — как раз «господин», а конкретно сам император. [кими га ё] дословно «время {правления} господина», а вся фраза там означает что-то вроде «пусть царствование императора продлится тысячу, нет восемь тысяч поколений...».
Мы отвлеклись, но не сильно, ибо завершающая строка у Басё звучит почти как первая строка гимна: [кими га хару] — дословно «весна господина», а по смыслу «расцвет правления».
Итак, что получается вместе? «Даже {иностранному} капитану {приходится} падать ниц — {вот это и есть} расцвет могущества {Японии}».
Но разве «кабитану» приходилось кланяться, если он управлял условно независимым островом? Приходилось. Раз в год, ко второму числу третьего лунного месяца делегация голландцев везла подарки в сёгунскую столицу. Поэтому мы и не называем «господина» из хайку напрямую «императором». Голландцы падали ниц перед военным правителем, сёгуном, представляющим для них Японию.
И становится понятной «весна господина»: помимо иносказания («расцвет власти») и формального «сезонного слова» это реальная весна, сезон приема подарков от «южных варваров».
Какие сложности с переводом? Кто такой «кабитан» не объяснишь, надо вводить какого-то «иностранца». И неоднозначность «весна»/«расцвет» не передашь, придется оставить только «власть», без времени года.
И хочется придворно-возвышенное [цукубава сэ кэри] передать чем-то настоль же пышным, вроде «верноподданичества» или «коленопреклонения».